Абрек Зелимхан как символ духовного сопротивления в суфийской культуре чеченского общества
|
ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ:
|
 Суфийские традиции в духовной культуре чеченцев и ингушей превратились в символы их этнической идентификации - отсюда их неискоренимый характер. После поражения горцев в Кавказской войне последователи накшбандийского тариката, некоторые наибы и шейхи Дагестана и Чечни поменяли свою тактику. Примирившись с поражением, они сблизились с военной администрацией края, а в ряде случаев даже определились на службу, получив офицерские чины и хорошо оплачиваемые должности. Царская власть, нуждаясь в поддержке со стороны населения, сохраняла своим бывшим противникам должности наибов, мулл, кадиев. Таким образом, формировалась социальная верхушка, через которую царизм стремился властвовать над горцами. Дети наибов стали обучаться в русских школах, из них создавался низший и средний туземный чиновничий аппарат, необходимый для осуществления управления над народом. Отсутствие у чеченцев политической элиты вынуждало царскую администрацию использовать в качестве таковой вчерашних своих врагов, признавших власть царя. <...>
Суфийские традиции в духовной культуре чеченцев и ингушей превратились в символы их этнической идентификации - отсюда их неискоренимый характер. После поражения горцев в Кавказской войне последователи накшбандийского тариката, некоторые наибы и шейхи Дагестана и Чечни поменяли свою тактику. Примирившись с поражением, они сблизились с военной администрацией края, а в ряде случаев даже определились на службу, получив офицерские чины и хорошо оплачиваемые должности. Царская власть, нуждаясь в поддержке со стороны населения, сохраняла своим бывшим противникам должности наибов, мулл, кадиев. Таким образом, формировалась социальная верхушка, через которую царизм стремился властвовать над горцами. Дети наибов стали обучаться в русских школах, из них создавался низший и средний туземный чиновничий аппарат, необходимый для осуществления управления над народом. Отсутствие у чеченцев политической элиты вынуждало царскую администрацию использовать в качестве таковой вчерашних своих врагов, признавших власть царя. <...>
Последствия поражения восстания горцев в 1877-1878 годов были исключительно тяжелыми. Из 17 привлеченных к ответственности повстанцев 11 человек решением временного военно-полевого суда, заседавшего 4-6 марта 1878 года, были приговорены к смертной казни через повешение. Руководители восстания Алибек-Хаджи, Ума Дуев с сыном Дадой Умаевым, бывшим прапорщиком конвойной сотни императора, 9 марта 1878 года в 6 часов утра в Грозном на ярмарочной площади были повешены. <...> В ходе развернутых царизмом репрессий против дагестанских повстанцев были подвергнуты арестам 17 тысяч человек. Значительная часть из них была отправлена в сибирскую ссылку, где многие погибли от холода, голода и болезней. Оставшиеся в живых вернулись после гибели АлександараII. Они были возвращены на родину Александром III. Однако, зикристское движение царизм не смог искоренить, поскольку у него не существовало единого центра и руководства. В целях сохранения своего учения они разделились на ряд групп, которые были возглавлены бывшими приближенными учениками Кунта-Хаджи.
В начале 80-х годов ХIХ в. возникли зикристские вирды: Бамат-Гирей-Хаджи, Батал-Хаджи и Чиммирза. Единое зикристское движение раскололось на несколько мелких групп. С одной стороны, данное деление зикристов на более мелкие группы сохранило их от полного исчезновения, но с другой стороны, породило между ними серьезные противоречия, чаще всего возникавшие на почве интриг власти. В конце ХIХ века в Чечне наиболее влиятельным лидером зикристов становится шейхБамат-Гирей-Хаджи Митаев (в народе его еще называют Овда), уроженец селения Автуры. Бамат-Гирей-Хаджи - чеченский суфий, последователь Кунта-Хаджи Кишиева. Он родился примерно в 1838 году в селении Автуры в семье муллы, принадлежит к тайпу гуной. Спустя десять лет после ареста и ссылки Кунта-Хаджи Бамат-Гирей совершает хадж в Мекку. Вернувшись на родину, судя по преданию, он 6 лет провел в уединении, то есть совершил суфийский обряд халват. Последователем же шейха Кунта-Хаджи он становится еще в детские годы. Как сообщает предание, однажды Кунта-Хаджи среди игравших на кладбище детей приметил мальчика, который ходил между могилами, прислоняя голову к каждой из них. Своим мюридам он пояснил, что этому мальчику хорошо видно то, что происходит в каждой могиле. Обладателем столь необычайных способностей оказался Бамат-Гирей. Кунта-Хаджи привлекает его в круг своих мюридов, обучает основам учения кадирийа.
Часто у зикристов возникает вопрос: является ли Бамат-Гирей-Хаджи Митаев продолжателем вирда Кунта-Хаджи? Одни утверждают, что Кунта-Хаджи не оставил преемника, заявив, что вернется к своим мюридам. Многие мюриды Кунта-Хаджи до сих пор придерживаются этого мнения. «Бамат-Гирей был самым близким и талантливым учеником Кунта-Хаджи, а потому он - продолжатель его дела», - точка зрения, которая встречается среди части верующих. В течение шести лет, до 1870 года, Бамат-Гирей продолжал дело своего учителя, вовлекая в вирд Кунта-Хаджи все новых последователей. Со временем он становится во главе большой группы мюридов, которые видели в нем своего духовного учителя, но сам он всегда считал своим наставником Кунта-Хаджи. Однако те, кто утверждал, что Кунта-Хаджи вернется в Чечню и возглавит оставшихся без наставника мюридов, не желали смириться с его лидерством. <...>
Дореволюционные архивные документы фиксируют возросшее влияние шейха Овды на народ. В своем секретном донесении начальству генерал-майор Орбелиани пишет, что влияние этого шейха на народ было настолько сильным, что «он еще при жизни слывет за святого, что подтверждается тем, что каждое место, где совершил моление Бамат-Гирей-Хаджи, обозначено особыми отличительными знаками, так почти по всему пути в ставку начальника 2 участка в сел. Саясан мне приходилось встречать места, огороженные плетнем или забором, считающиеся населением священными, так как там молился Бамат-Гирей-Хаджи». Генерал Орбелиани сообщал, что последователи Бамат-Гирея-Хаджи в бытность начальником Терского военного округа генерал-лейтенанта Колюбякина, «пользуясь большим покровительством его, приобрели особенно большую силу, что значительно увеличило последователей их и вместе с тем довело дерзость до того, что они не хотят признавать никакой власти, кроме власти своего шейха».
Если военное командование Терской области в целом было благосклонно к мюридскому братству Бамат-Гирея-Хаджи, то Веденское окружное начальство предпринимало все меры, чтобы не допустить усиления этого братства. Отношения, складывающиеся между ними, приобретали враждебный характер. Мюриды обращались к начальнику Терской области с жалобами на окружное начальство. При их разборе было установлено, что они явились следствием неприязненных отношений, установившихся между начальником округа капитаном Дудниковым и главою зикристов Бамат-Гиреем-Хаджи, имевшим «поползновение играть первенствующую роль в округе и устраивать как бы государство в государстве».
Шейх Бамат-Гирей-Хаджи поддерживал чеченского абрека Зелимхана Харачоевского, вставшего на путь индивидуальной борьбы с царизмом, подвергавшего чеченское крестьянство тяжелому угнетению. Явление абречества возникло в конце ХIХ века и в начале ХХ века получило широкое распространение. «Абрек» - слово чеченское, которое впервые вошло в русский язык со времени русско-кавказской войны, и в чеченском понимании оно означает «революционер-одиночка, который мстит чужеземной власти за ее несправедливость и жестокости против чеченского народа». Бытовала точка зрения, что кавказские абреки - разбойники поневоле, жертвы темперамента, аффекта, народных обычаев, носящих в иных случаях кровавый характер, часто это и жертвы общественной или административной несправедливости.
Путь жестокой индивидуальной борьбы с чиновниками кавказские абреки избирали не от хорошей жизни. Это было связано с социальной несправедливостью, беспощадным угнетением. «Око за око» - такова была бесхитростная философия их мести, сопротивления. Но после каждой мести абреков со стороны царских войск следовали массовые экзекуции против мирного населения. Зелимхан, преследуемый царскими войсками, нуждался в поддержке не только простых горцев, но и религиозных авторитетов. В поисках такой поддержки он обращается к шейху Бамат-Гирею-Хаджи, который относился с пониманием к его борьбе с царскими чиновниками. Понимая, что пока Зелимхан находит поддержку у известных религиозных авторитетов, его невозможно поймать или ликвидировать, военная администрация Кавказского края с согласия царя производит массовые аресты. Среди арестованных были известные в Дагестане, Чечне и Ингушетии суфийские шейхи. Согласно документу Департамента полиции под названием «К вопросу о выдворении высылаемых из Кавказского края в Тульскую, Орловскую и Калужскую губернии шейхов и 25-ти родственников Зелимхана за оказываемые последнему пособничества в дерзских преступлениях». В числе сосланных шейхов были Бамат-Гирей-Хаджи, Докку-Хаджи, Кана-шейх, Батал-Хаджи, Магомед-мулла.
16 сентября 1911 году Командующий войсками Кавказского военного округа генерал-адъютант, генерал от кавалерии граф Воронцов-Дашков направил российскому императору «всеподданейший рапорт» о принятии им мер по «наказанию чеченского народа за укрывательство абрека Зелимхана и оказываемое ему пособничество в дерзких преступлениях». Он просил царя «не отказать в зависящих распоряжениях о выдворении высылаемых… шейхов и 25-ти родственников Зелимхана в определенных им местах жительства и на правах лиц, высланных под гласный надзор полиции». Копию этого рапорта 26 октября была направлена министру внутренних дел Российской империи А.А. Макарову. В своем рапорте Воронцов-Дашков показывает сложившуюся на Тереке сложную ситуацию, в связи с абречеством Зелимхана.
«Самым главным препятствием поимке названного абрека служит поголовное укрывательство его почти всем туземным населением Грозненского и Веденского округов и оказываемая ими разбойнику в необходимых случаях активная поддержка», - расписывался в собственном бессилии царский генерал. Не сумев организовать поимку Зелимхана, он решил «в целях достойного наказания чеченского народа за непрерывное укрывательство Зелимхана, в течение 12 лет, и явное ему пособничество, а также и установления порядка дальнейшей борьбы с упомянутым разбойником», предложил начальнику Терской области осуществить следующие мероприятия:
В Орловскую губернию со своими семьями были выселены 24 родственника Зелимхана из Харачоя. Приведены их списки, в которых указаны число членов их семей, возраст и имущественное положение. Примечателен документ: «Сведения о семейном положении и прежней судимости шейхов Терской области, подлежащих выселению в Калужскую губернию, огласно предписанию Главнокомандующего Кавказского военного округа от 15 октября 1911 года № 6645».
- Бамат-Гирей-Хаджи, как сообщает архивный документ, имел возраст 103 года. По-видимому, он ошибочен, поскольку в момент ссылки ему не было больше 75 лет. В нем указаны три его жены -Басса, Тамигаз, Аругаз и сыновья - Али и Умар. Перечислено его имущественное положение: дом, кухня с сенцами, здание под лавку, сарай, конюшня, здание под школу, черепичный завод, дрова, сено, кукуруза, ячмень, пшеница, мануфактура на 8000 рублей, ковры, столы, стулья и зеркала, лошадь, 4 буйволицы и 2 буйвола, фруктовый сад, участок леса.
- В Момент ареста возраст шейха Чиммирзы Хамирзаева достиг 45 лет. И он имел две жены:Субайхат, Хурамат и пятеро дочерей. Но его материальное положение было очень скромным.
- Согласно данному документу, возраст шейха Батал-Хаджи - 75 лет. Вместе с ним была сослана его жена Хадижат с двумя маленькими сыновьями - Магометом (7 лет) и Курейшом (4 года). Состояние этого шейха - «дом из 6 комнат с кухней под черепицей, 5 коров, 2 быка, фаэтон, тарантас, 13000 рублей в банке, 18500 рублей долг за людьми».
Жизнь шейха Бамат-Гирея-Хаджи в Калуге в отличие от ссыльных не сопровождалась большими лишениями. Он снимал жилье и обеспечивал себя за счет собственных средств. Если остальные сосланные жили на государственном довольствии, за счет специально выделяемых ссыльным средств, то Бамат-Гирею-Хаджи в них было отказано. В ссылке рядом с Бамат-Гиреем-Хаджи Митаевым находились его верные мюриды, которые нередко приезжали в Калугу. Пристав 2-ой части города Калуги рапортует Калужскому приставу о том, что «житель Веденского округа Терской области Хаджи Митаев Баммат-гирей прибыл с места родины 26 сего марта». Тяга на родину у Бамат-Гирея-Хаджи была огромной. Даже в состоянии болезни он обращается к власти с просьбой разрешить вернуться в Чечню. Царский документ от 14 мая 1914 года свидетельствует, что «Бамат-Гирей-Хаджи, находясь в состоянии недомогания», обратился с просьбой к Наместнику Его Императорского Величества на Кавказе разрешить ему вернуться на родину. 22 мая Особый Отдел Канцелярии Его Императорского Величества на Кавказе объявило ему, что «означенное ходатайство просителя Главным Кавказским Начальством отложено».
Неожиданно для всех шейх Овда вернулся в Автуры. Встревожанный этим, его сын Али стал упрекать отца за побег из ссылки. На упреки сына Бамат-Гирей ответил: «Мой учитель Кунта-Хаджи во время своего ареста, успокаивая взволнованных мюридов, обещал им, что скоро вернется. До сих пор в сердцах мюридов теплится надежда на его возвращение. То же самое, поневоле, было сказано и мною во время моей ссылки. Я вернулся, чтобы выполнить свое обещание, а также назвать своего последователя, которым станешь ты. Знаю, что должен вернуться в ссылку и там буду находиться до конца моих дней». Пообщавшись с родственниками и многочисленными мюридами, он возвращается в Калугу.
После возвращения из Чечни в ссылку этого шейха пытались наказать в судебном порядке за побег. Но дело наказания его затянулось, поэтому 28 октября 1913 года Калужский полицмейстер приказывает приставу 2 части гор. Калуги донести ему, «в каком положении дело о привлечении к ответственности по 63 ст. поднадзорного Митаева». В ответ была дана справка, что городской судья гор. Калуги дело это еще не рассматривал и оно «будет передано им Мировому Судье Терской области по месту обнаружения виновного Митаева».
Считается, что мусульманские святые (аулийа) наделяются Аллахом сверхъестественными способностями, что позволяет им совершать необычайные поступки. Предание сообщает, что накануне своей кончины Овда пожелал увидеть очень близкого ему мюрида по имени Абу-Муслим из Центороя. Обратившись к своим мюридам, находившимся при нем, он попросил пригласить к нему Абу-Муслима из далекой Чечни. Мюриды оказались в затруднении, не зная, как исполнить просьбу своего учителя. Видя это, Овда, прикованный к постели, негромким голосом позвал Абу-Муслима. Как сообщает предание, Абу-Муслим, который был в этот момент занят пахотой на своем земельном участке, отчетливо услышал голос своего устаза. Бросив все дела, он отправился в Калугу к своему духовному наставнику и добрался до его кончины.
Пристав 3-ей части Калуги 17 сентября 1914 года составляет рапорт в Калужское Городское полицейское Управление, в котором сообщает, что «состоявший под гласным надзором полиции... житель Веденского Округа Терской области Бамат-Гирей-Хаджи Митаев умер 13-го сего сентября». Абу-Муслим и другие мюриды привезли тело шейха Овды в Автуры. На его могиле, по желанию его сына Али Митаева, воздвигается мавзолей (зиярат), ставший местом паломничества многочисленных верующих из Дагестана, Чечни, Ингушетии.
Суфийские традиции в духовной культуре чеченцев и ингушей не есть нечто внешнее, второстепенное. Они превратились в важные символы, индикаторы, характеризующие этническую идентификацию чеченцев. Никакими репрессиями они не могут быть «зачищены».
Извлечение из "Сегментация суфийских братств на Северо-Восточном Кавказе"
Источник: evrazia.org/article/2228
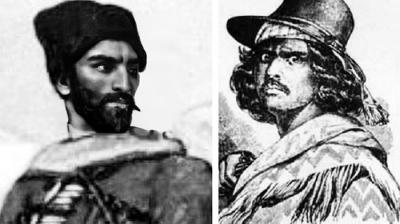
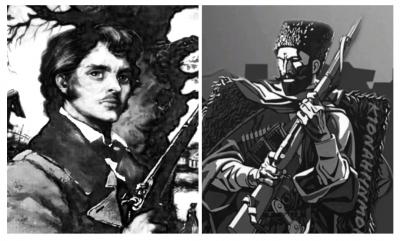


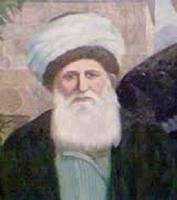






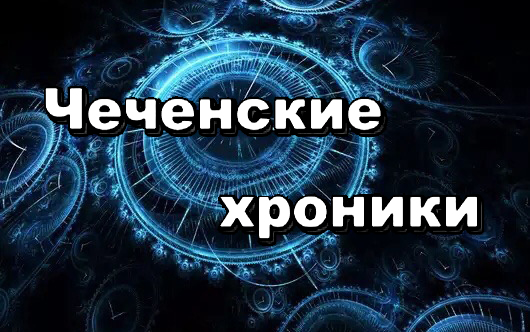
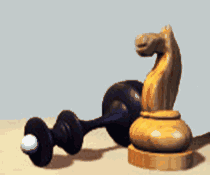




0 Комментариев